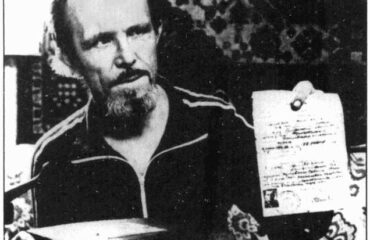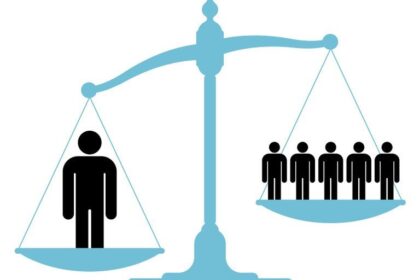
Прежде чем говорить о понятиях неравенства, разберемся с темой богатства и бедности.
В советских школах детей учили, что бедность понятие не только абсолютное, но и относительное. В самом деле, любой король средневековья беднее среднего современного человека. У большинства людей сегодня есть лекарства, системы микроклимата, отопление зимой и чистая водопроводная вода в любое время суток. Ни один монарх не мог таким похвастаться. Означает ли это, что любой человек с центральным отоплением и возможностью купить антибиотики богат? Нет, конечно. Он может быть и беден относительно среднего уровня жизни в своей стране и в своем городе.
Поэтому в современной социологии выработан достаточно объективный критерий понятия богатства. Богатые люди — это часть общества, чьи доходы заметно превышают средние доходы по стране. Бедные — чьи доходы заметно ниже средних. А средний класс — та часть населения, чья доля в национальном благосостоянии соответствует их доле в населении.
На примере: 10% богатых принадлежит 55% имущества и доходов, 50% бедных имеет 5% доходов и имущества, а 40% среднего класса владеет 40% национального благосостояния. Именно такое соотношение достигнуто в Европе.
Причем средний класс как заметное явление появился сравнительно недавно, менее ста лет назад.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАВЕНСТВА
Человеческой цивилизации 6000 лет. Именно тогда возникли первые государства в долинах Нила и Месопотамии. На протяжении последующих веков между верхушкой и всеми остальными была социальная пропасть.
Более того, сами доходы могли не расти на протяжении столетий. Реальные зарплаты в Амстердаме, Вене, Мадриде на протяжении четырехсот лет с 1500 года по 1900 год стояли на месте, — отмечает Джек Голдстоун в исследовании «Почему Европа?». Между тем все три города были столицами держав, подчинивших себе огромные пространства в Европе или за океанами. Однако на уровне жизни обычных работников это не сказывалось никак.
Более того, завоевательные войны служили источником обогащения небольшой паразитической группы, у которой государства брали деньги в кредит для снаряжения армий. Бюджеты Британии и Франции на протяжении столетия работали на рантье, что кредитовали правительства в период наполеоновских войн. Ни на образование для масс, ни на хорошую всеобщую медицину ресурсов не было.
Все изменилось в ХХ веке. Первая мировая война снесла уютный мир рантье, живших за счет чужого труда. В России произошла национализация частной собственности. Огромные военные расходы во Франции, Британии и США вызвали рост налогов и гиперинфляцию. Вторая мировая война укрепила процесс изъятия сверхбогатств. Верхние ставки подоходного налога достигли 95% в США и 97% в Великобритании. Появились налоги на наследство и на прибыль.
Резко возросли государственные расходы. Если в начале ХХ века государство изымало в виде налогов 10% ВВП, чего хватало только на войска и тюрьмы, то к 1950 году доля госрасходов к ВВП превысила в передовых странах 50%. Это позволило провести невероятные и по сути революционные реформы.
У работающих людей возникло право на оплачиваемый отпуск (1936 во Франции, 1963 в Германии, 1998 в Великобритании, в США единых минимальных стандартов пока нет), гарантированную государственную пенсию (1945 во Франции, 1967 в Испании), 40-часовую рабочую неделю (1940 в США, 1948 в Австралии, 1967 в СССР). Зарплаты работающего класса резко выросли, что отодвинуло борьбу с голодом куда-то в прошлое и позволило качественно улучшить условия жизни.
Создание среднего класса происходило за счет снижения влияния и аппетитов имущего класса. В период между 1913 и 1950 годом в Японии доля доходов богатейшего 1 процента населения сократилась с 19% до 7%, во Франции с с 18% до 7.5%, в Великобритании с 12% до 4%.
Важно понимать, что привычный для нас сегодня мир возник совсем недавно. Буквально в 50-е годы ХХ века доля детей, не охваченных средним образованием, составляла 80% в Великобритании, 70% во Франции, 60% в Германии и 20% в США. Не прошло и двух десятилетий, как охват оказался абсолютным и есть чувство, что такой порядок незыблем.
Но это не значит, что такой новый мир вечен.
ТЬМА СГУЩАЕТСЯ
К концу 70-х годов прошлого века в экономиках мира накопились противоречия, подробно останавливаться на природе которых здесь было бы лишнее. В их основе лежала глобализация мирового хозяйства, перевод производств в страны третьего мира и увеличение доли сферы услуг. Пользуясь новыми информационными возможностями, капитал стал уходить от налогообложения в офшоры. Профсоюзы ослабли. Цены начали галопировать.
Мировой экономический кризис 1974-1975 годов по масштабам оказался сравним с потрясениями недавнего Covid-19. Производство в Японии сократилось на 23%, в Италии на 20%, Германии на 16%, США на 12%.
К сожалению, социал-демократия не смогла найти качественные решения на вызовы времени, что дало пространство для укрепления реакции. Объяснение было простым: государство мешает экономическому развитию, надо дать бизнесу свободу развития, а от развития бизнеса выиграют все. Символами правых перемен стали Рейган и Тэтчер. Их первыми решениями были ограничение забастовок, ограничение права на профсоюз и снижение налогов на супердоходы. В Великобритании за несколько лет ставка налога на доход была снижена с 83% до 40%, в США с 70% до 28%.
В тех или иных формах аналогичные изменения произошли в большинстве стран.
Экономика действительно росла, но плодами этого роста в первую очередь пользовалась имущая верхушка. «Предположим, — пишет Бранко Милоанович в монографии «Новый подход к эпохе глобализации», — что мы взяли весь выигрыш в глобальном доходе между 1988 и 2008 годами и обозначили его как 100. По факту 44% выигрыша уйдет к пяти богатейшим процентам людей, при этом одна пятая общего абсолютного выигрыша будет получена богатейшим 1%».
В 1970-2020 годах индексация минимальной зарплаты в США отставала от роста цен, да так, что в реальных ценах снизилась на 35%, — отмечает Тома Пикетти в «Краткой истории равенства».
Доля среднего класса с 1980 года снизилась: в Швеции с 45% до 44%, в Германии с 40% до 39%, в Великобритании с 41% до 33%, в США с 33% до 27%. Иначе говоря, в Штатах каждая шестая семья перешла из категории среднего класса в бедный. В Великобритании — каждая пятая.
Это, собственно, и ответ, почему при росте экономики уровень жизни большой части населения стоит на месте, а то и снижается.
Это не преувеличение. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц пишет, что в 1996-2011 годах средний доход американской семьи снизился с $50661 до $50054. Росстат со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщает, что реальная зарплата в Италии в 2010-2021 годах снизилась на 3%, а в Нидерландах и вовсе на 7%.
При этом, как пишет Пикетти, всего три миллиона человек контролирует 15% мирового ВВП. В России сотня олигархов из списка Форбс владеет и вовсе 30% экономики.
ТЫСЯЧА ОТТЕНКОВ НЕРАВЕНСТВА
Неравенство в доходах означает и неравенство в возможностях. И речь не только о покупках товаров или отдыхе.
Бедный человек, например, не имеет машины и вынужден закупать продукты не в супермаркете, а в ближайшем маленьком магазине, где меньше ассортимент и выше цена. То есть он априори больше тратит.
Но есть вещи поважнее, чем ассортимент. Разберем по блокам.
Прямые социальные потери.
Недоедание. Россиянин из нижних 10% населения тратит на еду втрое меньше денег чем из наиболее богатой 10%-ной группы. Он ест продукты худшего качества и в заметно меньшем объеме. Разница составляет 150 кг молочных продуктов, 62 кг овощей и бахчевых, 53 кг мяса, 20 кг рыбы и даже 14 кг хлеба в год. И сотню куриных яиц. При этом если состоятельная 10%-ная часть россиян тратит на продукты 17% доходов, то малообеспеченная половина населения от 36% до 45%. Это уровень Эфиопии, Индонезии и Кыргызстана. Понятно, что наши соотечественники питаются лучше, чем жители соответствующих стран, но расходы на еду у них составляют такую же долю семейного бюджета, так что на прочее остается немногое.
Рост заболеваемости. Итогом плохого питания является рост заболеваемости. За 10 лет (доходы стали стагнировать с 2014) только число случаев сахарного диабета выросло более чем втрое и приблизилось к 14 млн. Ввиду некачественого водоснабжения, а оно тоже прямой продукт неравенства и бедности, в стране наблюдается +3 млн заболеваний +11.000 смертей в год (Счетная палата).
Ранняя смертность. Низкие зарплаты вынуждают искать подработки. Работа свыше 55 часов в неделю повышает смертность от инсульта (> 35%) и ишемической болезни сердца (> 17%). Между тем в России ввиду низких доходов населения 54% работников сообщают, что работают сверхурочно и реальная их рабочая неделя составляет 52 часа. О недостатке сна в опросе, проведенном НАФИ, заявили 48% респондентов. Только в Свердловской области умерло от инфаркта прямо на работе в 2023 году 110 человек.
Межпоколенческое неравенство. Имущественное неравенство закрепляется межпоколенчески, поскольку означает разный доступ к образованию. Начиная с дошкольной подготовки и заканчивая университетом, в капиталистическом обществе семьи, имеющие возможность оплатить дополнительные услуги, создают своим детям лучшее будущее. То есть раскрытие талантов зависит от того, есть у родителей деньги или нет. В России сейчас среди детей рабочих платные языковые занятия или иные дисциплины посещают 12%, в то время как среди детей руководителей, даже самого маленького звена – 30%. Похожая картина в США. Здесь среди детей из 10% самых бедных семей шанс получить высшее образование составляет 20%, в то время как среди детей из состоятельного класса речь идет уже о 90%.
Самовоспроизводящаяся бедность. Образованные люди зарабатывают больше. Есть оценки, что россияне с высшим образованием получают в полтора раза больший доход. Есть оценки – что вдвое. Схожая картина в США, где исследования ведутся со времен Второй мировой войны и неизменно показывают, что выпускники колледжей зарабатывают на 60% больше, -отмечает Нобелевский лауреат Джеймс Стиглиц. Поскольку, как мы отметили выше, бедность и низкие государственные расходы на образование закрепляют его классовый характер, получение должной квалификации для детей из бедных семей сложно, а это значит, что они будут бедны на протяжении своей жизни, поскольку бедны их родители.
Снижение общей продолжительности жизни. Образованные люди и живут дольше. По оценкам Высшей школы экономики разница составляет 17.5 лет для мужчин и 14.5 лет для женщин. Более того, в группе с высшим образованием в десятые годы происходило снижение смертности, тогда как для группы с образованием ниже среднего смертность, наоборот, увеличивалась.
То есть неравенство убивает в буквальном смысле этого слова.
Экономические потери.
Здравоохранение. Убытки экономики. Минздрав России оценивает число россиян, страдающих избыточным весом, в 62%, а ежегодный убыток экономике на уровне 4% ВВП или восьми триллионов рублей. Еще в 3.5 трлн.₽ в год оцениваются потери экономики ввиду недосыпа сотрудников, измученных переработками. Еще в 15-24 трлн. руб. ученые Российской Академии наук оценивают потери экономики ввиду ранней смертности россиян, вызванной опять же бедностью, плохим питанием, переработками и стрессами.
То есть только по линии экономии на медицине жадность капитала приносит убыток российской экономике на 14-20% ВВП. Эта цифра сравнима с богатством всего российского списка Форбс. Но бизнес исходит из логики «здесь и сейчас», совершенно игнорируя свои же собственные выгоды в случае увеличения качества жизни людей.
Образование. Убыток экономики. По оценкам специалистов ООН, увеличение средней продолжительности учебы на 1 год дает прирост ВВП на уровне 3-6%. Соответственно, экономия государственных расходов на образовании, являющаяся формой отказа от борьбы с неравенством, закрывает доступ к знаниям и профессиональным навыкам для значительной части населения и тормозит общее экономическое развитие. Сказанное относится и к науке, развитие которой требует широкого фундамента в виде образованного и креативного общества.
Сжатие рынка сбыта. У обычных людей и высшего общества сильно отличается структура потребления. Человек не будет покупать сотню костюмов или десять бюджетных седанов. Богатый класс специализируется на предметах роскоши, яхтах, драгоценностях и дорогих лимузинах. Соответственно, при высоком неравенстве производство теряет массового обычного потребителя и теряет национальный рынок сбыта. Неравенство порождает экономическую стагнацию. Это понимают и наиболее умные представители капитала. Несколько лет назад российский миллиардер Араз Агаларов заявил, что «без увеличения пенсий и зарплат невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать».
Политическая сторона.
Гендерное неравенство. Промышленная революция XIX века востребовала много рабочих рук в производстве. Социальные преобразования ХХ века потребовали создания множества рабочих мест в медицине и образовании. Массовый переезд населения из сел в города создал новую культуру трудовых отношений, в которой женщина была уже не придатком к «кормильцу-мужчине», а самостоятельным человеком, способным прокормить себя и детей за счет своего труда.
Однако предрассудки никуда не делись. Процесс выравнивания юридических прав мужчин и женщин продолжается на планете до сих пор. И речь не только про территории типа Афганистана, рухнувшего в средневековье. Сегодня в России заработные платы женщин на 30% ниже, чем зарплаты мужчин, причем разрыв наблюдается даже в сегментах с низкой долей физического труда (здравоохранение) при равном уровне образования. Подобное неравенство означает фактическую недоплату за труд, последствия чего описаны выше.
Бесправие народа. Неравенство означает, что львиная доля национального богатства сосредотачивается в руках узкой группы лиц. Объективно, интересы этой группы предполагают сохранение и преумножение богатства, то есть низких налогов ставок, то есть низкого уровня перераспределения их капиталов через налоги на образование, медицину и пенсии. Это требует политической консервации сложившегося положения дел, то есть ликвидации инструментов, посредством которых народ может требовать изменений (митингов, забастовок, свободы слова и пр.). Имущий класс обладает неоспоримыми преимуществами даже в демократиях в виде подкупа СМИ, финансовой поддержки партий, влияния через направленную рекламу на соцсети и так далее. В тираниях возможности имущего класса, фактически срастающегося с государством («сегодня чиновник — завтра капиталист, сегодня капиталист — завтра чиновник») неимоверно возрастают.
При этом капитал будет утекать от налогов туда, где ему не надо делиться с работниками, и на мировой периферии пестовать диктатуры с запретом профсоюзов, низкими налогами, низкими ставками зарплаты и отсутствием экологических норм. При этом капитал будет требовать перестроить стандарты передовых стран под худшие условия ввиду «невозможности» иным образом обеспечить выживание экономик в конкурентном мире.
Угроза войн. Но диктатура на то и диктатура, что она вне правил. Это внутреннее ощущение отсутствия ограничений она переносит и во внешний мир. Кроме того, лучший способ поддержания стабильности внутри страны — наличие внешних врагов: слабых, которых можно завоевывать, обретая уверенность в себе и популярность в обществе, и сильных, с которыми лучше избегать прямых конфликтов, но наличие которых позволяет объяснить экономические неудачи и бедность. Поэтому неравенство порождает не только бесправие, но и войны.
ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ?
Профсоюз является формой коллективной борьбы, позволяющей лучше отстоять интересы каждого отдельного работника. Точно также солидарность работников на национальном и интернациональном уровне позволяет изменить общие правила игры. Все исторические успехи рабочего движения были связаны с выработкой коллективной стратегии и ее реализацией через разнообразие коллективных действий. Примерами сказанного являются 8-часовой рабочий день, право на оплачиваемый отпуск, право на пенсию, право на бесплатное всеобщее образование и доступную медицину, выглядевшие фантастикой еще сто лет назад.
Нарастающее на протяжении последних сорока лет неравенство представляет собой очевидную угрозу диффузии и утраты этих завоеваний.
Поэтому помимо текущей работы очень важно разъяснять работникам и общее положение дел, и возможность достижения успеха только по пути солидарности трудящихся всех стран безотносительно гендера, национальности, отношения к религии или гражданства.
Сегодня передовая научная мысль находится в поиске эффективных решений. Среди них возвращение к параметрам подоходного налога середины ХХ века (до 95-97%% в США и Великобритании), введение налога на супернаследства и на роскошь. Страны первого мира уже предприняли ряд эффективных мер по пресечению вывода капиталов из под налогообложения в тропические оффшоры. Обсуждается 1%-ный налог на фондовые операции. Есть разработанные концепции введения налога на капитал.
Все это не абстракции. Борьбе за восьмичасовой рабочий день или конвенции об ограничении детского труда предшествовала дискуссия не меньшей степени сложности и куда большей продолжительности.
Но успех будет достигнут тогда, когда идеи овладеют миллионами, а это уже и наша работа. Мы должны разъяснять, в чем опасность неравенства и что противостоять этой угрозе можно только вместе.